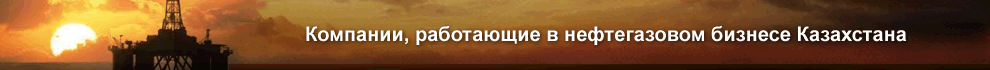30 лет – Эпоха Независимости
КТК создал благоприятный инвестиционный режим для нефтяной отрасли

После обретения Казахстаном независимости первый президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев сделал ставку на нефтяную отрасль как локомотив экономики, ставший катализатором привлечения иностранных инвестиций. И тогда же стало понятно, что Казахстану необходим надёжный экспортный маршрут для выхода нефти на мировые рынки. Таким маршрутом стал «Тенгиз-Новороссийск» Каспийского трубопроводного консорциума, через который сегодня прокачивается более двух третей казахстанской нефти. О замысле, истории строительства и будущем КТК рассказывает непосредственный участник всех переговоров и строительства нефтепровода Кайргельды Кабылдин, сейчас – заместитель генерального директора АО «КТК-К».
Как это было
– Я пришёл работать в министерство нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан весной 1993 года. С этого момента мне посчастливилось заниматься этим проектом. Тогда как раз было подписано соглашение с корпорацией «Шеврон» о создании совместного предприятия «Тенгизшевройл».
Естественно, как и любой инвестор, «Шеврон», в первую очередь, рассматривал пути экспорта добытой нефти. Он, безусловно, знал о ценности тенгизской нефти, потому что по качеству она отличалась от любой российской экспортной смеси, она была легче и поэтому ценнее на международных рынках. Премия на каждом барреле тенгизской нефти составляла около 3,25 доллара. Когда «Шеврон» пришел, на Тенгизе уже добывалось 3 миллиона тонн. Если принять, что они пошли на экспорт через нефтепровод «Атырау-Самара», и далее на Восточную Европу через Брест, на Новороссийск, на южную Европу, в смеси с нефтью других российских месторождений, можно посчитать, что около 75 миллионов долларов в год валютной выручки терялось. А это в то время были большие деньги.
«Шеврон», понимая это и планируя инвестиции в Тенгиз, стремился построить специализированный экспортный маршрут для экспорта тенгизской нефти, с учетом её качества. Тенгизу нужен был прямой выход на Чёрное море, потому что, если через Самару идти, то нефть смешивалась бы с западносибирской, с татарской, башкирской нефтью. Если бы она шла через Грозный на Новороссийск, там смешивалась бы с азербайджанской, с чеченской нефтью. Поэтому «Шеврон» выбрал обособленный маршрут КТК, хотя до этого предполагались разные варианты, в том числе на Баку и дальше через Джейхан, в Турцию, через Чёрное море. Но турецкая сторона говорила о проблемах прохода через Босфор.
Был маршрут на Иран, естественно, «Шеврон» туда не мог идти, потому что Иран был под санкциями ООН. Был маршрут даже гипотетически через Туркменистан-Пакистан на Индию, то есть до определения маршрута КТК, как главного и приоритетного, казахстанской стороной рассматривалось множество маршрутов.
– Рассматривался казахстанской стороной или «Шевроном»?
– Казахстанской стороной, только казахстанской. Потому что уже к тому времени все понимали, что у Казахстана есть потенциал в виде Тенгиза и Карачаганака, что в Казахстан придут инвесторы рано или поздно. До этого Всемирным банком и консалтинговой компанией Ernst&Young (в настоящее время – EY) был сделан анализ всех рисков транзитных стран, рисков экологических, геополитических, связанных с безопасной транспортировкой нефти, рисков, связанных с инвестициями.
– Это в каком году было сделано?
– Это было как раз на стыке 1991 и 1992-го годов. Таким образом был определён приоритетом Каспийский трубопроводный маршрут, который назывался «Тенгиз - Чёрное море». Дальше уже началось обоснование этого маршрута в технико-экономическом аспекте, было подготовлено первое ТЭО, которое профинансировал Оман, и был создан консорциум, чтобы финансировать это ТЭО и разработку прединвестиционной документации.
Оман вызвался финансировать этот консорциум, который был создан в июне 1992 года, зарегистрирован на Бермудах, назывался он «CPC LTD Bermudy». Первоначально участниками его были «Оман ойл компани» и Республика Казахстан. В июле к нему присоединилась Россия, так как маршрут шел через её территорию. И для того, чтобы реализовать этот проект, нужна была государственная поддержка со стороны России, нужно было получить право прохода, необходимые согласования и разрешения для прокладки трассы нефтепровода.
– Оман участвовал в выборе маршрута трубопровода?
– Нет, это было полностью решение казахстанской стороны. Когда Казахстан сказал, что он определяет приоритетом маршрут «Тенгиз-Чёрное море», теперь нужен был инвестор. Проект требовал огромных инвестиций, и тогда «Оман ойл компани», которая выступала консультантом нашего правительства в сделке по Тенгизу, предложила организовать финансирование, но по схеме: «Я найду финансирование, если Республика Казахстан гарантирует прокачку нефти по этому трубопроводу», в таком случае любой международный банк даст деньги под такую гарантию.
Проект оценивался более чем в 2 млрд долларов на тот момент, естественно, казна государства не могла позволить такие огромные инвестиции. Схема очень простая, при этом гарантии должны быть по принципу «качай или плати», ты гарантируешь, допустим, определенный объём нефти прокачать, если даже ты прокачал меньше, к примеру, 9 млн тонн, ты платишь тариф за 10 гарантированных. Такую гарантию просила «Оман ойл компани», как оператор будущего проекта «Тенгиз-Новороссийск» со стороны Казахстана.

Но тут начинается другая история. 1993-й год, на Тенгизское месторождение приходит «Шеврон», он имеет своё видение по разработке месторождения и транспортировке добытой нефти. И когда им предложили: «Дайте гарантии, а мы найдём финансирование», они ответили: «Гарантии тоже чего-то стоят, дайте мне долю в проекте». Были предложения отдать «Шеврону» четверть, тогда в консорциуме было бы уже 4 участника. Но «Шеврон» на это не согласился, потому что он не мог сотрудничать с господином Джоном Дойсом, руководителем «Оман ойл», который в то время находился под санкциями ООН. Во-вторых, они сказали: «А причём тут Оман?». Россия и Казахстан понятно, они предоставляют территорию, дают все необходимые разрешения, согласования о прокладке трубопровода, и в конце концов, являются хозяевами территории. А «Шеврон» – это грузоотправитель.
И таким образом, до 1995-96-годов шли переговоры, перетягивание каждой стороной одеяла на себя. И в конце концов результата не было, организовать финансирование не удалось. Тогда был предложен другой принцип, который инициировал наш президент Нурсултан Назарбаев: «яблоко пополам». То есть сказали: «Мы 50% отдаём добывающим компаниям». Тогда, помимо интереса «Шеврона», консолидировались такие компании, работающие в Казахстане, как «Шелл», Oryx company, BP, BG. Появилась группа компаний, которые изъявили желание стать инвестором этого проекта, при условии, что им передадут долю в проекте во владение, что им предоставят гарантированные мощности, то есть распределят мощность трубопровода среди участников. И отсюда родился принцип «яблоко пополам», который наш президент озвучил, 50 на 50.
50 процентов уходило международным нефтяным компаниям, которые изъявили желание стать инвесторами проекта, и 50 процентов оставалось за Россией, Казахстаном и Оманом. И весной 1996 года был подписан протокол о реорганизации консорциума. А изначально эти принципы были направлены российской стороне. Нурсултан Абишевич написал господину Ельцину письмо, что вот предлагаем в проект привлечь международные нефтяные компании. Ельцин одобрил, после этого протокол о реорганизации был подписан.
Это было выгодно для всех участников. Международные нефтяные компании гарантируют прокачку нефти на принципах «качай или плати», за это получают право доступа к трубопроводу и делят между собой мощность, устанавливают тариф. Для них это выгодно, потому что если бы нефтепровод находился в собственности государства, тогда бы доступ к трубе и тариф регулировался бы со стороны государства. И были риски для них, что завтра могут ограничить доступ к трубопроводу или же изменят тариф, который будет экономически невыгодным. Взамен они брали на себя обязательство на 100% финансировать проект первоначального строительства.
– Финальное соглашение когда было подписано?
– Это был апрель 1996 года, когда был подписан протокол. Буквально через месяц начались переговоры в гостинице «Метрополь» в Москве. Они продолжались с мая по декабрь, вот эти все принципы, которые я перечислил, должны были лечь в юридически обязательный документ, называемый договором акционеров, то есть, по сути, это учредительный документ проекта. Для прозрачности и для целей налогообложения создали два юридических лица в России и в Казахстане: КТК-Р и КТК-К.
Нефтепровод КТК проходил по 450 километрам территории Казахстана и 1100 километров территории России. Эти два юридических лица были созданы для того, чтобы соответствующие налоги платились от доходов от транспортировки нефти на соответствующей территории.
– Более полугода переговоров, какие основные вопросы решались на них?
– Смотрите: участниками проекта стали 8 компаний на тот момент и 3 государства. И эту, образно говоря, «дружную семейку» нужно было усадить за один круглый стол, чтобы они конкретизировали свои замыслы и цели в единый документ, который в будущем будет для них руководящим – это договор акционеров. Я, как участник этого процесса, могу сказать, что было желание достичь взаимовыгодных или взаимоприемлемых условий для каждого участника. Во-первых, естественно, каждый пришел со своим, как говорится, «уставом»: Россия, Казахстан регулировали такие проекты в соответствии со стандартами ГОСТа, международные компании регулировали проектирование, строительство и эксплуатацию трубопровода в соответствии с международными стандартами, имея в виду стандарт API, европейские стандарты – надо было все эти стандарты гармонизировать.
Второе – и у России, и у Казахстана не было законов, которые бы защищали иностранные инвестиции. Соответственно, нужно было прописать в этом договоре обязательства России и Казахстана перед инвесторами. Третье – надо было зафиксировать налоги, для этого разрабатывалась финансово-экономическая модель. Дальше право на тариф, надо было соответствующий нормативно-правовой акт подписать, что транспортировка по системе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума не будет регулироваться антимонопольным законодательством двух стран.
Дальше появился так называемый «банк качества», который действует, когда нефть сдается в систему, и на выходе уже производится расчет, кто потерял по качеству, получает компенсацию от других, а кто испортил качество, тот платит. Это такая система, которая сегодня доказала свою жизнеспособность.

Добавьте к этому, что нужно было получать все необходимые разрешения по трассе нефтепровода, это уже на региональном уровне, в Астраханской области, Калмыкии, Ставропольском, Краснодарском краях, там пересечение трубой заповедных мест, где-то охраняемых природных территорий, были территории на трассе маршрута, где существовали какие-то военные захоронения, которые приходилось обходить или проходить с соблюдением всех необходимых норм и правил, и максимально сохранить их. То же самое и на территории Казахстана.
Казахстан и Россия передавали существующие активы нефтепровода Тенгиз-Грозный, была проведена их оценка по международным стандартам, технический аудит. Были протесты общественности при прохождении трассы в Краснодарском крае, в заповеднике Абрау-Дюрсо, на побережье Чёрного моря. Российским коллегам приходилось вести разъяснительную работу, пробивать брешь бюрократизма местной администрации и так далее.
Я думаю, только консолидация взаимных уступок и компромиссов позволила прийти к общему соглашению, которое называется Договор акционеров КТК. И это является уникальным опытом, и некоторые положения нашего договора акционеров трансформировались в международные стандарты, в Договор Энергетической хартии, во многих документах и соглашениях сейчас активно используется опыт КТК.
Все согласования с министерствами, ведомствами проводила команда нашего министерства нефти и газа во главе с министром господином Балгимбаевым, я считаю, он внёс огромный вклад. С российской стороны от имени министерства занимался всем согласованием господин Шаталов Анатолий Тихонович, первый замминистра. И за всем этим процессом, безусловно, постоянно следил, держал руку на пульсе и помогал наш президент – Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он постоянно был в контакте с российским президентом господином Ельциным, с российским премьером господином Черномырдиным. Был одним из локомотивов продвижения этого проекта, без преувеличения.
– Финальная точка была поставлена 6 декабря 1996 года?
– Да, подписание проходило в Москве, в «Президент отеле», за круглым столом. Сразу после него министр Балгимбаев по мобильному телефону позвонил Нурсултану Абишевичу и поздравил с подписанием договора. Действительно, это был успех, потому что учреждение этого консорциума создало благоприятный инвестиционный режим для нефтяной отрасли страны. После этого начал Карачаганак развиваться, Тенгиз начал развиваться (вторая очередь пошла, третья очередь будет скоро). После этого инвесторы пришли на Кашаган. Именно КТК стал таким мостом для инвестиций со стороны международных инвесторов в нефтяные проекты в Казахстане.
В 1999 году, будучи заместителем премьер-министра, господин Токаев участвовал в Южной Озереевке в церемонии начала строительства трубопровода. За два года все необходимые объекты для начала транспортировки были построены, и в 2001 году началось заполнение трубы нефтью. В основном, она заполнялась со стороны Тенгизского месторождения – там почти полмиллиона тонн нефти закачали, заполнили до Новороссийска. И в октябре 2001 года состоялась уже отгрузка первого танкера – то есть нефтепровод начал коммерческую деятельность.
– Когда стало понятно, что нефтепроводу требуется расширение?
– Расширение было изначально заложено в самом проекте. И как только были подписаны все необходимые решения акционеров по инвестициям проекта первой очереди – это где-то 2,2 миллиарда долларов на мощность 28 миллионов тонн, после этого сразу начались переговоры по проекту расширения. Он предусматривал достичь проектной мощности в 67 миллионов тонн. Переговоры продолжались практически 10 лет. Проект первоначального строительства реализовывался исключительно на деньги иностранных инвесторов. Проект управлялся полностью с их стороны – управляющие органы, даже совета директоров не было, был комитет добывающих компаний. Они проводили все утверждения, согласования, необходимые тендеры и так далее.

Что касается проекта расширения, рассматривалось также несколько вариантов. Можно было занять деньги у банков на финансирование, но эта модель не прошла. Решили финансировать за счет того, что добывающие компании согласились отложить выплату первоначального долга им на конец проекта расширения и решили финансировать деньгами от текущего потока наличности. То есть деньгами самого КТК. И это требовало внести определенные изменения в первоначальные положения договора акционеров, в части обслуживания займов, процентной ставки на вклады акционеров, распределения мощности, в части тарифа. Всё это опять потребовало значительного времени.
В 2009 году мы согласовали принципы, подписали, и в 2010 году началось строительство второй очереди, или говоря по-другому, проекта расширения, который в 2018 году завершился вводом в эксплуатацию проекта на полную мощность. Стоимость второй очереди оценивалась примерно в 5,5 миллиардов долларов, сделали проект за 5,2 миллиарда, по-моему.
– Что было построено?
– Было построено в рамках проекта расширения 10 дополнительных насосных станций. Помимо этого, чтобы увеличить мощность трубопровода, требовалась замена участка трубопровода в Казахстане, строительство дополнительного резервуарного парка, замена основного технологического оборудования.
– Следующий масштабный проект увеличения мощности нефтепровода, который реализуется сейчас, это ПУУМ – Программа устранения узких мест…
– Я бы назвал это модернизацией. Были проведены проектные исследования в рамках текущей эксплуатации и выявлена возможность увеличить объемы прокачки с помощью применения присадок, которые меняют скорость перекачки жидкостей по нефтепроводу. Таким образом мы предполагаем довести мощность до почти 82 миллионов тонн на Тенгизском терминале.
После завершения Проекта будущего расширения Тенгиза добыча на нём увеличится на 12 миллионов тонн, проект ПУУМ и направлен на создание вот этих 12 миллионов тонн добавленной мощности. И этот проект тоже будет осуществляться за счёт текущего потока денежной наличности, то есть средств акционеров. Это доказывает ещё раз, что КТК – это проект, проверенный временем. Я добавлю ещё, что КТК – это хороший пример сотрудничества государства с частным инвестором, сотрудничества между государствами, Россией и Казахстаном. КТК является образцом для строительства трансграничных нефтепроводов. Его практику мы использовали в проекте строительства нефтепровода «Казахстан-Китай».
КТК уже вышел на такой этап, когда можно говорить, что проект состоялся. Сегодня КТК уже выплачивает дивиденды всем участникам. КТК является хорошим примером стандартов безопасности, уже два года мы работаем без нарушений техники безопасности и, значит, без травм и несчастных случаев.
– Кайргельды Максутович, мы от всей души поздравляем вас с 25-летием проекта КТК, который отмечается практически одновременно с юбилеем независимости Казахстана. И, в свою очередь, хотели бы попросить вас поздравить с юбилеем коллег.
– КТК является практически ровесником нашей независимости, если учесть, что работы по нему начались в 1992 году. Всем коллегам, акционерам я бы хотел пожелать дальнейших успехов, процветания, надёжности, благополучия и, безусловно, долгого-долгого здоровья всем вам, мои уважаемые коллеги и друзья!