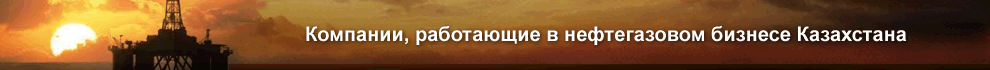Эксклюзив
Концептуальное переосмысление энергетической безопасности: отсутствие энергетической безопасности на евразийском пространстве по причине различия в политико-экономическом устройстве
Эд Стоддард
Информация об авторе
Эд Стоддард является PhD-докторантом Совета экономических и социальных исследований Великобритании, обучающимся в Центре европейских и международных наук Портсмутского университета Соединенного Королевства. Его научные интересы включают отношения между Европой и странами Центральной Азии и Южного Кавказа, а также политику Европейского союза по вопросам энергоресурсов в Каспийском регионе.
Энергетическая безопасность является предметом серьезной озабоченности в странах Европы и Евразийского континента. Разумеется, понятие энергетической безопасности различается в этих регионах.
Для стран, входящих в Евросоюз, таких как Германия и Великобритания, энергетическая безопасность заключается в безопасности обеспечения и поддержании цен на энергоресурсы ниже уровня, при превышении которого возникает вероятность появления социальной и экономической напряженности.
Для стран бывшего СССР, обладающих богатыми запасами нефти и газа, например России и Казахстана, безопасность подразумевает безопасность спроса, сохранение достаточно высоких цен для обеспечения постоянного пополнения бюджета и выполнения поставленных социальных и экономических задач.
Исследование литературы и комментариев по вопросу энергетической политики показывает ее широкое разделение между двумя противоположными способами понимания энергетической безопасности: рыночно-экономическим подходом и геополитическим подходом. Указанные способы понимания часто пренебрегают друг другом и, соответственно, не дают всестороннего анализа причин энергетической безопасности.
В данной статье предпринят отличительный подход, предполагающий, что для понимания того, как возникают проблемы энергетической безопасности, необходимо сфокусироваться на вопросе о том, каким образом энергетические рынки подвержены давлению, возникающему вследствие различий в политическом и экономическом устройстве государств, замкнутых в цепь энергетической взаимозависимости.
Энергетическая безопасность: рыночная экономика и геополитические перспективы
Как указано выше, большинство обсуждений по поводу энергетической безопасности концептуализируется в рамках либо рыночного подхода, либо геополитического. По своей сути экономический анализ рассматривает энергоресурсы как вид товара, и ничто иное.
Следовательно, рынок энергоресурсов не должен обладать какими-либо специальными условиями и должен быть обусловлен такими же условиями, прописанными экономистами для рынков других товаров.
В связи с либерализацией и глобальной природой рынков энергоресурсов энергетическая безопасность либо ее отсутствие должны рассматриваться как рыночный результат, «обусловленный рыночными действиями, и, таким образом, может только быть определен рыночными условиями — определенная поставка (физическое наличие) и цена[1].
Януш Билеский утверждает, что «для экономистов проблемой (энергетической безопасности) является в основном макроэкономическое воздействие высоких цен на энергоресурсы и опасность экономических потерь в результате возможной недостаточности поставок энергоресурсов»[2].
Защитники указанной позиции указывают на то, что энергетическая безопасность — это «доступность энергоресурсов для тех, кто способен заплатить рыночную цену». Более того, функция политики энергетической безопасности должна заключаться в том, чтобы «заставить и потом позволить рынку работать»[3].

В традициях рыночной экономики наиболее известная дефиниция энергетической безопасности дана Международным агентством по энергетике, которое определяет энергетическую безопасность как «достаточное обеспечение энергоресурсами по приемлемой цене», включающую компоненты «достаточности, ценовой доступности (приемлемости) и надежности поставок»[4].
Указанные определения интегрируют относительную и абсолютную категории. Достаточность поставок является абсолютной категорией — поставка любо достаточна, либо нет, тогда как ценовая доступность и надежность поставок являются относительными категориями, интерпретация которых может существенно варьироваться[5].
Резонность цен может означать как цену достаточно высокую, при которой компании и страны–экспортеры нефти и газа обеспечивают возврат инвестиций, так и цену, достаточно низкую для обеспечения экономического роста в странах-потребителях[6].
Кроме того, цена странами, зависящими от экспорта нефти и газа, также рассматривается с позиции ее достаточности для увеличения и балансирования бюджета и поддержания политической стабильности.
В 1980-е и 1990-е указанный подход рассматривался как наиболее действенный. В данный период высокий уровень добычи нефти в странах ОЭСР, ликвидность энергетических рынков и их возрастающая интернационализация и коммерциализация обещали уменьшение политической составляющей нефтедобычи и ее вхождение в конкурентную среду. Более того, развитие новых технологий в сфере добычи натурального газа внесло перспективу учреждения международногорынка сжиженного газа и отделение индекса цены газа от индекса цены на нефть[7].
Однако изменение ситуации на глобальном энергетическом рынке в 2000-х привнесло некоторый пессимизм в вопрос энергетической безопасности. Позитивизм рынков энергоресурсов 1980-х и 1990-х (с позиции ОЭСР) создал ложное чувство безопасности для (западных) политиков.
В новом столетии значительный спрос и повышение цен, вызванные в основном совместно повышением спроса со стороны стран, не входящих в ОЭСР, и рыночными спекуляциями, наложило определенные трудности на либеральную рыночно ориентированную модель политики в области энергоресурсов[8]. Страны Евросоюза и США видели в этом рост напористости стран–производителей энергоресурсов.
Ученые и политики начали подвергать сомнению роль рынка, давая предпочтение стратегическому партнерству. В условиях отсутствия какого-либо согласия по вопросу общих основ политического взаимодействия на международном уровне усилился геополитический анализ энергетической безопасности[9].

Отражая традиционное представление о «войне и мире» в международных отношениях, геополитический подход к энергетической безопасности акцентирует внимание на рисках потенциальных конфликтов в отношениях по вопросам энергоресурсов по двум основным причинам.
Во-первых, в рамках этой точки зрения энергетические ресурсы (особенно нефть и газ) могут рассматриваться как потенциальное «энергетическое оружие». Наличие энергетических ресурсов может предоставить государствам возможность удерживать другие государства в зависимости от импорта нефти и газа в целях получения финансовых преимуществ.
Применение концепции «энергоресурсы как оружие» прослеживается в наложении нефтяного эмбарго странами ОПЭК в 1973 и 1979 годах[10]. Однако несмотря на то, что возможность ограничений по обеспечению нефтью с Ближнего Востока сохраняется, в последнее время, с учетом газовых кризисов 2006, 2007 и 2009 годов, внимание указанной дискуссии сместилось в сторону России, которая обладает возможностью сокращать обеспечение газом Европы.
Во-вторых, конкуренция за энергоресурсы, по прогнозам, увеличит риск межгосударственных, а в некоторых случаях — внутригосударственных конфликтов[11]. С этой позиции возрастающий спрос на энергоресурсы разжигает все большую конкуренцию между сверхдержавами, особенно между США и Китаем.
Американский ученый Майкл Клар утверждает, что в будущем на глобальном ландшафте противоборств, вероятнее всего, будет доминировать борьба за ресурсы, а не за идеологию или глобальную расстановку сил[12]. Более того, существует мнение, что недостаточность энергоресурсов усилит риски и тяжесть рецессии, усложнив при этом противоречия между странами ОЭСР и другими основными странами-импортерами, такими как Индия и Китай.
Недостаточность энергоресурсов и вмешательство сверхдержав также рассматриваются как факторы, разжигающие местные, иногда межэтнические, конфликты, когда внутринациональные группировки сталкиваются в борьбе за доступ к ресурсам.
Данная позиция глобальной энергетической безопасности сформировалась под воздействием нескольких факторов. Так, обретение Китаем статуса многовекторного импортера и «реанимация» России, которая начались с начала 2000-х, определили очертания «новой холодной войны» за энергоресурсы, которая в нынешних условиях не имеет идеологической подоплеки[13].
Как подмечает Грант, позиции этих государств в существующем глобальном ландшафте энергоресурсов представляют нам ситуацию, при которой геополитический подход к энергетической безопасности становится оправданным[14]. В Европе, в частности, российско-украинский и российско-белорусский газовые кризисы добавили «пороха» к научному климату вокруг энергетической геополитики.
Вместо того чтобы концентрироваться на самих ресурсах или проблемах несоответствия спроса и предложения, геополитический подход концентрирует внимание на угрозах энергетической безопасности, исходящих от политических намерений государств, обладающих контролем или стабильным доступом к энергетическим ресурсам[15]. В рамках этого воззрения, в условиях анархии глобальной системы, энергоресурсы сами по себе значат для государств не более, чем возможность или сложность в преследовании национальных интересов.
Взаимное пренебрежение рынка и геополитики